
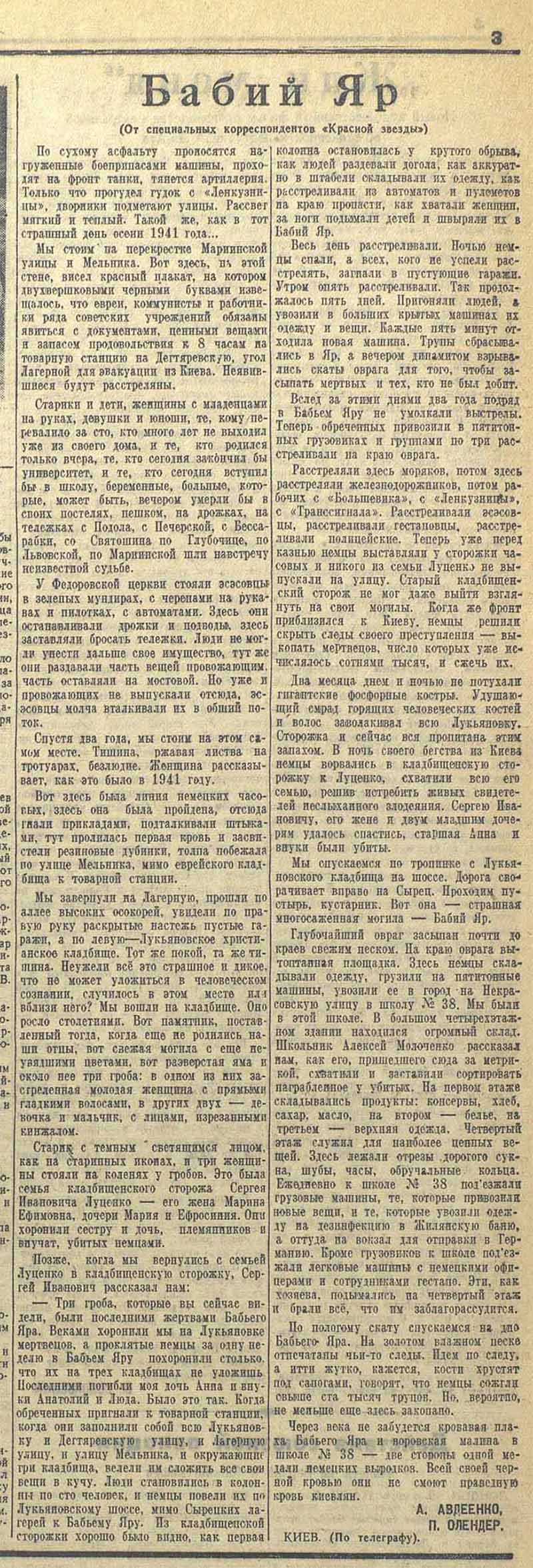


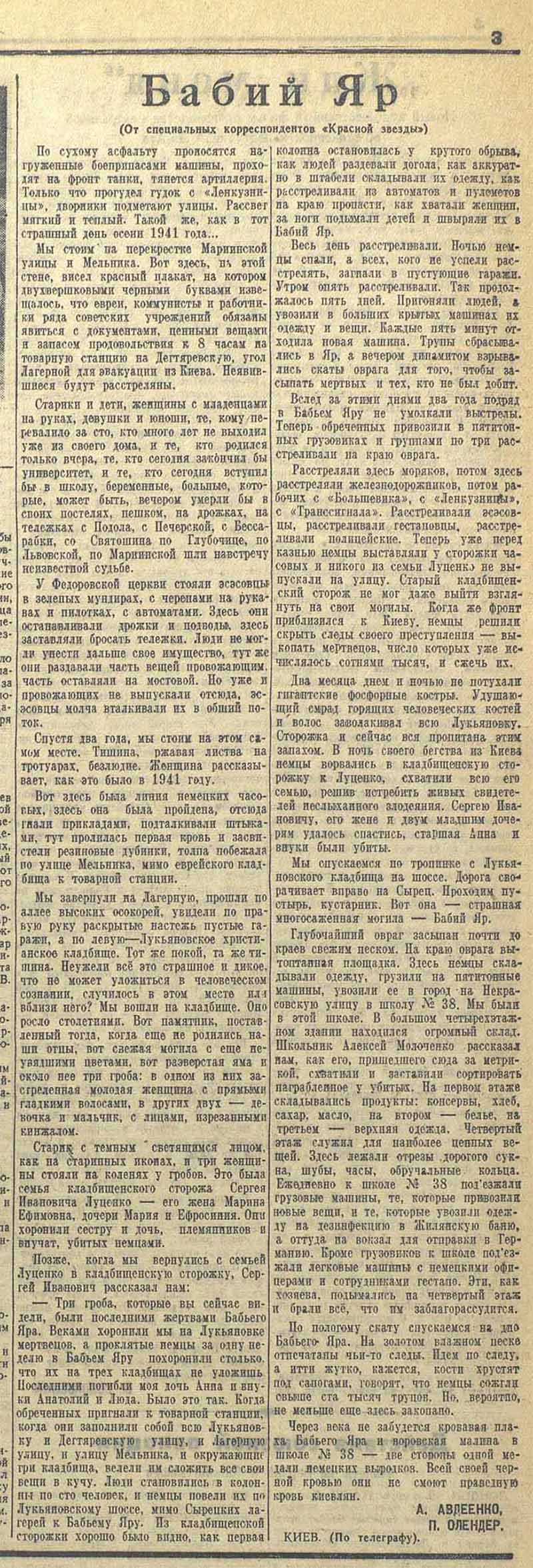
По сухому асфальту проносятся нагруженные боеприпасами машины, проходят на фронт танки, тянется артиллерия. Только что прогудел гудок с «Ленкузницы», дворники подметают улицы. Рассвет мягкий и теплый. Такой же, как в тот страшный день осени 1941 года...
Мы стоим на перекрестке Мариинской улицы и Мельника. Вот здесь, на этой стене, висел красный плакат, на котором двухвершковыми черными буквами извещалось, что евреи, коммунисты и работники ряда советских учреждений обязаны явиться с документами и ценными вещами и запасом продовольствия к 8 часам на товарную станцию на Дегтяревскую, угол Лагерной для эвакуации из Киева. Неявившиеся будут расстреляны.
Старики и дети, женщины с младенцами на руках, девушки и юноши, те, кому перевалило за сто, кто много лет не выходил уже из своего дома, и те, кто родился только вчера, те, кто сегодня закончил бы университет, и те, кто сегодня вступил бы в школу, беременные, больные, которые, может быть, вечером умерли бы в своих постелях, пешком, на дрожках, на тележках с Подола, с Печерской, с Бессарабки, со Святошина по Глубочице, по Львовской, по Мариинской шли навстречу неизвестной судьбе.
У Федоровской церкви стояли эсэсовцы в зеленых мундирах, с черепами на рукавах и пилотках, с автоматами. Здесь они останавливали дрожки и подводы, здесь заставляли бросать тележки. Люди не могли унести дальше свое имущество, тут же они раздавали часть вещей провожающим, часть оставляли на мостовой. Но уже и провожающих не выпускали отсюда, эсэсовцы молча вталкивали их в общий поток.
Спустя два года, мы стоим на этом самом месте. Тишина, ржавая листва на тротуарах, безлюдие. Женщина рассказывает, как это было в 1941 году.
Вот здесь была линия немецких часовых, здесь она была пройдена. отсюда гнали прикладами, подталкивали штыками, тут пролилась первая кровь и засвистели резиновые дубинки, толпа побежала по улице Мельника, мимо еврейского кладбища к товарной станции.
Мы завернули на Лагерную, прошли аллее высоких осокорей, увидели по правую руку раскрытые настеж пустые гаражи, а по левую — Лукьяновское християнское кладбище. Тот же покой, та же тишина.
Неужели всё это страшное и дикое, что не может уложиться в человеческом сознании, случилось в этом месте или вблизи него? Мы вошли на кладбище. Оно росло столетиями. Вот памятник, поставленный тогда, когда еще не родились наши отцы, вот свежая могила с еще неувядшими цветами, вот разверстая яма и около нее три гроба: в одном из них застреленная молодая женщина с прямыми гладкими волосами, в других двух — девочка и мальчик, с лицами, изрезанными кинжалом.
Старик с темным светящимся лицом, как на старинных иконах, и три женщины стояли на коленях у гробов. Это была семья кладбищенского сторожа Сергея Ивановича Луценко — его жена Марина Ефимовна, дочери Мария и Ефросиния. Они хоронили сестру и дочь, племянников и внучат, убитых немцами.
Позже, когда мы вернулись с семьей Луценко в кладбищенскую сторожку, Сергей Иванович рассказал нам:
— Три гроба, которые вы сейчас видели, были последними жертвами Бабьего Яра. Веками хоронили мы на Лукьяновке мертвецов, а проклятые немцы за одну неделю в Бабьем Яру похоронили столько, что их на трех кладбищах не уложишь. Последними погибли моя дочь Анна и внуки Анатолий и Люда. Было это так. Когда обреченных пригнали к товарной станции, когда они заполнили собой всю Лукьяновку и Дегтяревскую улицу, и Лагерную улицу, и улицу Мельника, и окружающие три кладбища, велели им сложить все свои вещи в кучу. Люди становились в колонны по сто человек, и немцы повели их по Лукьяновскому шоссе, мимо Сырецких лагерей к Бабьему Яру. Из кладбищенской сторожки хорошо было видно, как первая колонна остановилась у крутого обрыва, как людей раздевали догола, как аккуратно в штабели складывали их одежду, как расстреливали из автоматов и пулеметов на краю пропасти, как хватали женщин, за ноги подымали детей и швыряли их в Бабий Яр.
Весь день расстреливали. Ночью немцы спали, а всех, кого не успели расстрелять, загнали в пустующие гаражи. Утром опять расстреливали. Так продолжалось пять дней. Пригоняли людей, а увозили в больших крытых машинах их одежду и вещи. Каждые пять минут отходила новая машина. Трупы сбрасывались в Яр, а вечером динамитом взрывались скаты оврага для того, чтобы засыпать мертвых и тех, кто не был добит.
Вслед за этими днями два года подряд в Бабьем Яру не умолкали выстрелы. Теперь обреченных привозили в пятитонных грузовиках и группами по три расстреливали на краю оврага.
Расстреляли здесь моряков, потом здесь расстреляли железнодорожников, потом рабочих с «Большевика», с «Ленкузницы», с «Транссигнала». Расстреливали эсэсовцы, расстреливали гестаповцы, расстреливали полицейские. Теперь уже перед казнью немцы выставляли у сторожки часовых и никого из семьи Луценко не выпускали на улицу. Старый кладбищенский сторож не мог даже выйти взглянуть на свои могилы. Когда же фронт приблизился к Киеву, немцы решили скрыть следы своего преступления — выкопать мертвецов, число которых уже исчислялось сотнями тысяч, и сжечь их.
Два месяца днем и ночью не потухали гигантские фосфорные костры. Удушающий смрад горящих человеческих костей и волос заволакивал всю Лукьяновку. Сторожка и сейчас вся пропитана этим запахом. В ночь своего бегства из Киева немцы ворвались в кладбищенскую сторожку к Луценко, схватили всю его семью, решив истребить живых свидетелей неслыханного злодеяния. Сергею Ивановичу, его жене и двум младшим дочерям удалось спастись, старшая Анна и внуки были убиты.
Мы спускаемся по тропинке с Лукьяновского кладбища на шоссе. Дорога сворачивает вправо на Сырец. Проходим пустырь, кустарник. Вот она — страшная многосаженная могила — Бабий Яр.
Глубочайший овраг засыпан почти до краев свежим песком. На краю оврага вытоптанная площадка. Здесь немцы складывали одежду, грузили на пятитонные машины, увозили ее в город на Некрасовскую улицу в школу № 38. Мы были в этой школе. В большом четырехэтажном здании находился огромный склад. Школьник Алексей Молоченко рассказал нам, как его, пришедшего сюда за метрикой, схватили и заставили сортировать награбленное у убитых. На первом этаже складывались продукты: консервы, хлеб, сахар, масло, на втором — белье, на третьем — верхняя одежда. Четвертый этаж служил для наиболее ценных вещей. Здесь лежали отрезы дорогого сукна, шубы, часы, обручальные кольца. Ежедневно к школе № 38 подъезжали грузовые машины, те, которые привозили новые вещи, и те, которые увозили одежду на дезинфекцию в Жилянскую баню, а оттуда на вокзал для отправки в Германию. Кроме грузовиков к школе подъезжали легковые машины с немецкими офицерами и сотрудниками гестапо. Эти, как хозяева, подымались на четвертый этаж и брали всё, что им заблагорассудится. По пологому скату спускаемся на дно Бабьего Яра. На золотом влажном песке отпечатаны чьи-то следы. Идем по следу, а итти жутко, кажется, кости хрустят под сапогами, говорят, что немцы сожгли свыше ста тысяч трупов. Но, вероятно, не меньше еще здесь закопано.
Через века не забудется кровавая плаха Бабьего Яра и воровская малина в школе № 38 — две стороны одной медали немецких выродков. Всей своей черной кровью они не смоют праведную кровь киевлян.
А. АВДЕЕНКО,
П. ОЛЕНДЕР.